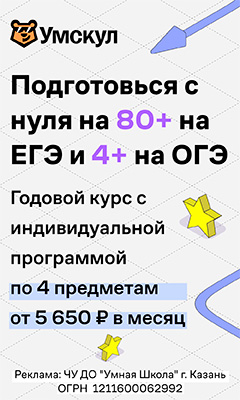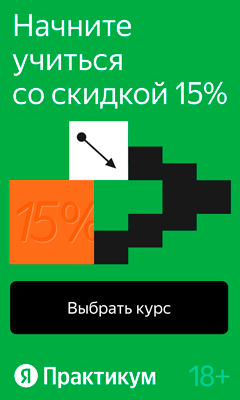Борис Алексеевич, у Вас широкий спектр научных интересов – Вы изучали зарождение нацистского движения в Германии, являетесь специалистом по Ватикану и Польской Католической Церкви, в прошлом году выпустили книгу, посвященную Туринской Плащанице. Как получилось, что Ваше внимание и способности оказались направлены в столь разные области?
Один известный польский ученый в Институте научной информации по общественным наукам РАН, где я проработал 17 лет, как-то поделился своим личным кредо: раз в 7 или самое большее 15 лет полезно менять сферу научных интересов, также полезно одновременно заниматься тремя темами, между собой не связанными. Должен сказать, что это правда: если всю жизнь занимаешься одной темой, начинаешь мыслить стандартно, а такой подход – со сменой областей научного интереса – отлично тренирует мозг, голова постоянно работает. В моей жизни вначале все так и устраивалось, что приходилось менять области научного интереса, осваивать какие-то сферы с нуля, теперь же я это делаю сознательно. Кроме того, я могу нахально сказать, что всю жизнь занимаюсь только тем, что мне интересно.
Вы полвека занимаетесь изучением Католической Церкви. Как в советское время историк мог выйти на такую тему?
Это как раз было связано с необходимостью нечто новое осваивать с нуля. Когда я учился в аспирантуре, я услышал лекцию о польском антифашистском сопротивлении. Преподаватель посоветовал прочитать хороший роман о сопротивлении, отметив, что эта книга никогда не будет переведена на русский язык. Я решил ее прочесть и для этого самостоятельно выучил польский язык. Потом, уже когда я женился, оказался в Москве и искал работу, мой друг увидел, что я читаю на польском, и сказал, что в Институте информации по общественным наукам Академии наук (ИНИОН АН СССР) нужен специалист по Польше. Я пошел туда, и на собеседовании с заведующим отдела социалистических стран, меня спросили, «с какого бока я полонист». Послушали, дали написать реферат по важной для понимания польской политики книге и взяли на временную работу. В этом институте в итоге я и проработал 17 лет. Поскольку по образованию я действительно не полонист, а германист и самостоятельно и быстро превратиться в полониста не мог, я пошел в Институт экономики мировой социалистической системы (ИЭМСС АН СССР), в сектор Польши, и сказал: «Ребята, научите меня». Там трудились высококлассные специалисты, и с их помощью в течение нескольких лет я стал экспертом по Польше.
Для научной работы я выбрал тему «Католическая церковь Польши (Костёл)». Она мне была интересна не только потому, что была главной политической проблемой для коммунистов, но и потому что писать о проблемах Русской Православной Церкви в СССР было нельзя, а о проблемах Польской Католической Церкви можно. Вообще не только в моей научной жизни был сделан такой выбор: это была своего рода сублимация, замещение интереса к Православной Церкви.
Само по себе католичество мне не близко, потому что оно очень борется за власть. Соперничество с государством – это вся история Католической Церкви. В Средние века это соперничество имело особый смысл — кто главнее перед Христом? Именно это противостояние – кто главнее: папа или император? – разрушило христианское единство Европы. В результате и папа, и император потеряли престиж, появились национальные государства. К Богу, к вере эта история почти не имеет отношения, но в политическом отношении это все крайне интересно.
Политика у меня всегда вызывала живой интерес. Можно сказать, это сродни увлечению спортом – интересно понять, как идет политическая борьба, какие есть силы, какие у кого возможности. В советский период в Польше существовали три силы: коммунистическая партия, единственная в социалистической системе, хотя и раздробленная оппозиция (в других странах лишь диссиденты) и мощная Католическая Церковь. Церковь умела договариваться с партией: из 100 епископов только 10 были оппозиционны.
А как Вы вышли на тему о Туринской Плащанице?[1]
Интерес к Туринской Плащанице у меня возник благодаря жене, Татьяне Борисовне[2]. Когда-то она получила в подарок книгу отца Глеба Каледы[3] о Плащанице. Принесла домой, мы ее с интересом прочли. Во время поездок в Польшу (а ездил я регулярно) я обращал внимание на книги по этой теме и что-то привозил домой. В отличие от СССР, в Польше выходили церковные и религиозные книги. Сначала я привез подпольное издание Вильсона о Плащанице, а потом привозил все новинки, которые выходили за рубежом. Постепенно накопилось столько материала, что я понял, что не могу не написать книгу. Первый вариант моей книги о Туринской Плащанице вышел около 15 лет назад, а недавно, когда издательство «Никея» предложило мне переиздать мою книжку, я согласился. За эти годы я на многое стал смотреть по-другому, поэтому, по сравнению с первой, это совершенно другая книга с новой концепцией.
Книг о Плащанице очень много, и, конечно, надо было не просто переписать то, что написано другими, но и свою лепту внести. У меня есть в этой книге открытие, которым очень горжусь. У меня при чтении Евангелия всегда возникал вопрос: почему Никодим пришел на погребение Спасителя тайно, а Иосиф Аримафейский отрыто. Как получилось, что такой влиятельный и богатый человек, член синедриона, открыто участвовал в похоронах государственного преступника, рискуя своим положением, и при этом нет известий, что в отношении Иосифа были применены какие-то репрессии. Я предположил, что Иосиф Аримафейский был официальным представителем власти, которому нужно было письменно зафиксировать, что осужденный – в данном случае Иисус из Назарета – умер. Эта версия основана на гипотезе историка Барбары Фрале, что в Израиле было положено хоронить преступника в день смерти в общей яме, в саване и с прикрепленным папирусом, где было написано, за что он казнен. Надпись делалась для того, чтобы через год родственники могли получить останки и похоронить. В поддержку этой гипотезы говорят исследования французских оптиков, нашедших на Плащанице следы букв. Фрале предположила, что это оттиск папируса, на котором было написано имя Иисуса и приговор.
Общий бюрократический порядок предполагает, что, если есть официальный текст, на нем должна быть и подтверждающая подпись официального лица. С учетом всех этих соображений я пришел к выводу, что этим официальным лицом мог быть тайный ученик Христа Иосиф Аримафейский: он мог присутствовать во время погребения свободно – как официальный представитель синедриона.
Еще один заинтересовавший меня момент: и Иосиф, и Никодим были правоверными иудеями, и им нельзя было дотрагиваться до мертвого тела. Поскольку они оба были богаты, у них были рабы (не иудеи), и к месту погребения они, скорее всего, пришли с ними. Рабы несли сто литров благовоний, часть из них могла нести ткань для погребения. Они же могли снимать Тело Христа с Креста. Я посчитал, что для того, чтобы снять тело с креста, нужно не менее пяти человек. Так как на Плащанице обнаружено не очень много крови, возникает вопрос, с чем это связано. Ведь известно, что Христа не обмывали. Скорее всего, рабы несли от Креста к месту погребения Тело Спасителя на ткани – так было легче: положили на ткань и отнесли на камень Помазания, эта ткань и впитала часть крови.
И у меня в книге есть еще одно предположение, объясняющее роль французского рыцаря де Шарни, у которого в XIV веке появилось это Полотно. Я выдвинул гипотезу о том, что французские короли, обнаружив Плащаницу в королевском хранилище, с помощью этого рыцаря и при поддержке Римских пап вернули величайшую реликвию христианства верующим.
Надо сказать, что для меня разгадывать исторические загадки – это самое большое удовольствие.
Свой учебник «Путеводитель по истории России ХХ века» [4] Вы посвятили своим родителям. Какие события истории ХХ века отразились в Вашей жизни и жизни Вашей семьи?
Школьником я наблюдал коллективизацию, вывоз людей в Сибирь и раскулачивание, борьбу с «лесными братьями» в Прибалтике, аспирантом и молодым преподавателем – молодежные подпольные антисоветские организации 60-х годов. В общем, я видел историю в лицах, а не только в учебниках.
Оба моих деда – Иван Филиппов и Алексей Буньков – в разное время были церковными старостами. Один за это пострадал – из Курганской области был сослан на Север. Бабушка гордилась, что была первой жительницей города Кировска Мурманской области [5]. Новый арест в 1937 году дед уже не пережил. Второй дед был посмекалистей: он не стал ждать, когда его арестуют, бежал в 1929 году в Новгород. Там устроился на завод, а бабушка Груня служила в доме епископа Новгородского Алексия, будущего Патриарха. Кем она там была, на кухне стряпала или помогала по хозяйству, я не знаю, но похоронили ее в 1939 году на монастырском кладбище.
С первых дней войны отец вступил в прифронтовой партизанский отряд на Карельском перешейке, а затем участвовал в действующей армии, имел два ранения. После войны вернулся на родину в Псковскую область. По распределению его отправили директором школы в образованный тогда Качановский район, где орудовали так называемые националистические группировки – «лесные братья», которые убивали учителей, советских чиновников. К нам относились как к чужакам, «москвичам». Мы жили на хуторе, местность в тех краях холмистая, два горба: на одном – школа, на другом – учительский дом. Однажды сидим дома: папа, мама, я и сестренка. Семь вечера. Стук в дверь. Кто это может быть? До ближайшего хутора полкилометра. Папа быстро отправляет нас в другую комнату, а сам берет ружье... На счастье, это был секретарь райкома партии.
В этот период я встретился с таким явлением, как «фронтовое братство». Когда старшее поколение встречалось, они не интересовались, член ты партии или нет, они спрашивали, где человек был во время войны и на каком фронте воевал. Мой отец, будучи беспартийным тем не менее, как фронтовик, находил общий язык и с секретарем райкома, и с секретарем парткома в Министерстве просвещения, куда его вызвали на курсы, и в Облоно, и в РОНО – всюду важно было одно: «Ты воевал?» В первые послевоенные годы это было очень значимо, потом это исчезло.
Говорили ли в Вашей семье о вере?
У нас была нецерковная семья, но никогда дома атеистических книг или разговоров не было. При этом в памяти запечатлелись удивительные моменты. Хорошо помню, как в деревне с папой беседовал священник, и сказанные им слова: «Но Вам я могу это сказать, Вы из своих, из церковных людей».
Родители хотели крестить меня в один день с младшей сестрой, но это не получилось. Моя младшая сестра была крещена сразу после рождения, а меня в тот день не смогли крестить, потому что священник был болен, сказали, что у него хватит сил только на одного. Так что я крестился поздно – в нашей квартире, вот в этой комнате, в 1990 году. Крестил меня отец Владимир [6]. Крестным стал отец Валентин Асмус, он тогда был еще диаконом.
Интерес к Церкви оформлялся у меня причудливым образом. В 10 классе, как секретарь комсомольской организации, часто ездил в Печоры. Автобус приходил в 8 часов утра, а райком комсомола открывался только в 9 часов, и этот час я проводил в монастыре.
Крещение во взрослом возрасте – это, как кажется, всегда непростая история, особенно, когда этот путь проходит человек науки.
Я действительно очень тяжело входил в церковную жизнь, прошло много лет, прежде чем я стал церковным человеком, только после крещения пришел в храм по-настоящему. Очень мешала гордыня: я же специалист по Церкви, знаю католическую и протестантскую аргументацию, меня много что раздражало. Очень благодарен, что моим восприемником в Церкви был отец Владимир, без него я бы в Церкви не удержался.
Кроме того, мои жена Татьяна Борисовна и дочь [7] приложили огромные усилия для моего воцерковления. Они пришли к отцу Владимиру раньше меня на несколько лет, когда он еще служил в Никольской церкви у Преображенского кладбища, а я пришел к нему уже в Успенский храм в Вишняки. Еще до крещения батюшка познакомил меня с будущим владыкой Пантелеимоном, с отцом Димитрием Смирновым. Несколько раз я был дома у отца Владимира, были неформальные встречи на днях рождения и общих праздниках. Мне запомнилось, как однажды отец Владимир в трапезной после вечерней исповеди рассказывал, как ходил в архив КГБ, где ему показали дело его деда – протоиерея Владимира Воробьева-старшего.
Мое воцерковление совпало с особенным временем в жизни Церкви и отдельных приходов, оно было не формальным, не обыденным актом, совершалось в характерной для 1990-х дружеской атмосфере. Сейчас это время, конечно, вспоминается с ностальгией – это было и сокровенное время личных переживаний, и время, когда вся наша Церковь восстанавливалась.
Вы были одним из тех, кто видел зарождение Богословского института, были свидетелем развития «филиалов» ПСТБИ в разных городах. Какое значение тогда это имело для церковной жизни?
Это был период колоссального духовного голода. Принцип советской власти был – не давать Церкви образованных священников и епископов. Представьте себе, на закате Советского Союза было всего 7 000 храмов и 5000 священников, половина одного процента из них со светским образованием. Когда изголодавшиеся по вере люди получили право на восстановление храмов и организацию общин, оказалось, что священников просто нет. Но нет и тех, кто может священников учить. Академия приравнивалась к техникуму. Появление нашего института – это революция для церковного жизни и церковного образования. Очень важно, что институт был поддержан Патриархом Алексием: без поддержки Святейшего ничего не получилось бы.
Не менее значимо было в первые десятилетия возрождения церковной жизни создание «филиалов» – центров дистанционного обучения [8]. С конца 1990-х к отцу Владимиру стали обращаться епископы, настоятели монастырей и приходов, которые понимали необходимость не только в образованном священстве, но и в образованной пастве. Они взяли на себя финансовое обеспечение этих филиалов (оплату чтения лекций, проверки контрольных работ, приема экзаменов и оплату перелетов преподавателей). Филиал в Ростове-на-Дону действовал благодаря спонсорской поддержке известного врача-онколога Юрия Сергеевича Сидоренко.
Жаждущих получить богословское образование на местах тогда было очень много.
Какие филиалы Вам особенно запомнились?
Большое впечатление оставили филиалы в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Кемерове – в каждом из этих центров учились одновременно более 100 человек. По три раза я был в филиалах в Вильнюсе и Караганде. Много раз бывал в Архангельске, это мой любимый филиал.
На Камчатке епископ Игнатий сдавал экзамен в присутствии священников, чтоб не подумали, что ему ставят оценки просто так. Он считал, что его требование, чтобы все в епархии учились, относится и к нему самому. Прилетаю в филиал, а мне говорят, что владыка два дня сидит в библиотеке. Причем, когда мы с ним познакомились, владыка Игнатий встретил меня как доброго знакомого – оказалось, что он помнит меня по филиалу в Вильнюсе, мы вместе сидели в трапезной за столом в Свято-Духовом монастыре, где он в то время нес послушание в библиотеке, а потом был благочинным.
В Кемеровском филиале епископ всегда интересовался, как проходит сессия, после экзамена ему приносили ведомость, и он очень расстраивался, если было много двоек, а такое случалось.
В Ростове и Екатеринбурге у нас учились целыми монастырями. Часть учащихся в Архангельском филиале была из братии Антониево-Сийского монастыря, что в 160 км от Архангельска.
Филиалы подарили встречи со многими удивительными людьми. Как и на вечерних катехизаторских курсах Богословского института, это были слушатели, как правило, с высшим образованием, иногда с двумя. В университетских городах – Ростове и Екатеринбурге – среди студентов нередко встречались кандидаты наук. Помню, как-то принимал экзамен у второго курса в Ростове. Студент мне рассказал билет по истории Византии, а после экзамена подарил написанную им книгу на эту тему.
Мне это было очень интересно. Но командировками в филиалы моя лекционная деятельность не ограничивалась. За свою жизнь как лектор общества «Знание» я проехал с лекциями на пограничных заставах почти всю южную границу СССР и даже побывал на Ямале.
Я по природе и преподаватель, и путешественник.
Командировка в филиал обычно длилась три-четыре дня. Я читал лекции для тех, у кого должен был принимать экзамен, а также установочные лекции для слушателей следующего потока. Нередко приглашали почитать тематические, просветительские лекции и вне учебного процесса. Например, каждый раз, когда я приезжал в Архангельск, по приглашению архимандрита Трифона читал лекции у него в монастыре. Помимо монастырской братии на этих лекциях были самые разные слушатели – от командиров подводных лодок Северного флота во главе с начальником штаба до делегации врачей. В Вильнюсе руководитель филиала, впоследствии профессор ПСТГУ, просила выступать перед местными школьниками, и я никогда не отказывался. У меня есть целый набор тем, которые могут заинтересовать подростков – например, тема поведения верующих в концлагере.
Это действительно интересно. А в чем интрига темы?
Известно, что и в наших, и в нацистских лагерях больше шансов было выжить у верующих. Это не значит, что все они выживали (когда власть целенаправленно расстреливала духовенство, выжить было невозможно), но в «нормальных» лагерных условиях шансов остаться в живых больше всего было у аристократов и верующих.
Один немецко-американский психиатр разделил всех заключенных на пять групп. Одна из групп – «чиновники» – погибает первой, так как эти люди ориентированы на выполнение приказа, а приказ один – умереть. «Чиновники» не могут приспособиться, потому что лагерь не заинтересован, чтобы они сохранились. Но в этих группах есть две – аристократы и верующие – которые имеют шанс выжить. И я во время этих встреч ребят спрашивал, что объединяет эти две группы. Дело в том, что выживают те, у кого есть что-то важнее жизни: для верующих – это вера, а для аристократов – честь. Если аристократ поступит бесчестно, значит всё, он психологически сломлен и вскоре погибнет физически.
Это очень интересная тема для обсуждения!
И для воспитания, потому что жизнь и смерть всех волнуют. Тема опробована на студентах и школьниках нескольких поколений.
А какими Вам запомнились 1990-е годы в истории ПСТГУ? В свете активного восстановления храмов и монастырей, развития духовных школ и общего оживления церковной жизни можно предположить, что это было время больших надежд…
Это верно, но это и время сильных эсхатологических настроений. Было ощущение, что мир рушится. Зачем накануне конца света изучать Французскую революцию? Люди шли в духовные школы спасаться, а не получать образование.
Я помню свои первые лекции в ПСТБИ. Начинал лекцию с того, что объяснял слушателям, зачем им нужна история, старался заинтересовать, проводил параллели между американской, французской и нашей. В общем говорил, как бравый солдат Швейк: «Аналогичная история произошла у нас в Чешских Будейовицах…» Это действовало. После занятий я шел к метро в сопровождении толпы студентов – это были взрослые люди, которые знали, зачем пришли в Церковь, но не всегда знали, зачем им нужна история Древнего мира, Средних веков, новейшего времени и так далее.
Но такие недоумения терзали студентов и на богословских дисциплинах. Каково было отцу Валентину Асмусу, который читал историю Церкви, когда ему говорили, что конец света скоро, а Вы тут историю преподаёте. Студентам 1990-х тоже нужно было помочь получить знания, помочь понять их смысл, увидеть, что история не только говорит о давно живших великих людях, она вере помогает и скромность воспитывает – я совершенно уверен, что история Церкви учит смирению больше, чем любой другой предмет.
В последующие годы эсхатологические настроения ослабли, а студенты поменялись?
Я помню, как впервые на одном из ученых советов услышал, что наконец к нам пришли «обычные студенты». Что значит «обычные»? Вот я даю для разработки на выбор тему по светской истории и по истории Церкви. На заре существования ПСТГУ у меня брали темы исключительно по церковной истории. Когда пошли «обычные» студенты, тенденция поменялась — все чаще берут темы по светской истории.
Борис Алексеевич, Вы потомственный учитель. Что сейчас поменялось в связке «учитель – ученик», «студент – преподаватель»?
До появления интернета учитель был для ученика главным источником новой информации о мире. А учитель, который знал больше, чем написано в учебнике, имел бесспорный авторитет. Книги были дефицитом, и тот, кто мог что-то сказать вне обыденной жизни, был очень важным человеком. Мы после лекции шли в библиотеку и возвращались поздно вечером.
Будучи еще молодым преподавателем, я помог определиться в жизни многим своим студентам. Один из студентов планировал стать заведующим в мясном отделе, тогда как отец его устроил в педагогический институт, на исторический факультет. Впоследствии этот студент стал ректором университета, главой издательства научной литературы, посвятил мне свою книгу. Другой ученик стал руководителем в исследовательском центре в Академии наук; последний мой хороший ученик собирался стать профессиональным вратарем, а в итоге преподает историю в Эрфуртском университете.
Сейчас мир изменился. Традиционные связи и каналы, дух преемственности, важные как для школы, так и Церкви, были разрушены интернетом. Каждый раз, когда я встречаюсь со школьниками, я должен прилагать особенные усилия для того, чтобы они слышали и слушали меня, при том что они меня очень любят.
Позволяет ли дистанционный формат занятий выстраивать такие традиционные связи между преподавателем и студентами? Мешает ли Вам интернет быть хорошим преподавателем?
Моя главная задача последних 20 лет — объяснить, что история интересна, что здесь есть, за что умом зацепиться. В каком формате я эту мысль донесу, неважно. Лекции я отсылаю студентам заранее, даю задание, а затем мы говорим на профессиональную тему 2,5 – 3 часа. Я стараюсь, чтобы никто не отсиделся, чтобы каждый говорил.
Когда я говорю, что мне нужно подготовиться к лекции, дома удивляются – ведь я с любого места могу говорить. Но я обязательно пересматриваю материал. Мое любимое выражение: «Я не должен читать лекции по личным воспоминаниям». Я не хочу, чтобы мне от самого себя было скучно. Старый опыт помогает, но он не должен превращаться в склероз – невосприимчивость к новой информации.
Иногда я ловлю себя на мысли, что преподавать уже не очень хочется, что оставшееся мне время надо посвятить науке. Но каждый раз, когда я нажимаю кнопку и устанавливаю связь Zoom, то, как и раньше, когда открывал дверь в аудиторию, что-то щелкает во мне. И я начинаю семинар.
Беседовала Ксения Вячеславовна Белошеева